Художница из Минска прошла сквозь лед и пламень, чтобы показать свою «Одиссею» в Москве
Выставка Анны Плотниковой на Винзаводе показала путь вглубь себя
Выставка «Одиссея» Анны Плотниковой погружает в путешествие вглубь себя и истории, в земной микромир и за пределы Вселенной. Здесь зритель буквально тактильно ощущает движение, наполненной поэтикой Андрея Тарковского, Марселя Пруста, Клода Моне. Для художницы из Минска «Одиссея» в галерее FINEART первой персональной выставкой в карьере.

тестовый баннер под заглавное изображение
На входе в галерею зрителей встречает автопортрет Анны Плотниковой в профиль, который будто зовет в путешествие. Созданная специально для выставки картина полна движения, как и вся «Одиссея», и как бы приглашает нас в путь по временам и пространствам. Первая «остановка» – Земля. Альтер-эко художницы смотрится на объемную мозаику старого города, за которой мы попадаем в «Хтоническую трилогию», написанную в селе Щорсы. Некогда имение Хрептовичей процветало: его строили итальянские и французские архитекторы, вокруг разбили сеть искусственных прудов и парк, хозяева собрали в особняке богатейшую библиотеку, где хранились в том числе переписка Богдана Хмельницкого и дневники Марины Мнишек. Сюда приезжали известные писатели и поэта, например, Адам Мицкевич под одним из дубов написал свою известную поэму «Гражина».

В ХХ веке имение пришло в упадок и почти превратилось в руины. Недавно один из флигелей привели в порядок и устроили там арт-резиденцию, где этой зимой побывала Анна. На ее картинах место выглядит хтонически – земляные тона создают ощущение, будто ты попал в параллельный мир, похожий на тот, что Андрей Тарковский показал в «Сталкере». Кажется, здесь тоже действуют другие законы физики, а место способно чувствовать и думать. «Хронической» свою трилогию Анна назвала, обратившись к древнегреческой формуле этого слова – χθών: «земля, почва». «Все возвращается к Земле, на круги своя», – говорит она этим циклом, где внимательный зритель может обнаружить двойное солнце в просветах замковых руин или мох почти флуоресцентно-зеленый.

Следующая стена занята оранжево-черной серией «Солярис». Внутри одних круглых модулей из эпоксидной смолы застыли крылья бабочек, пожухшие листики и льдинки, другие походят на застывшую неземную лаву. Вместе более 20 модулей напоминают жизнь светила, которое то в состоянии затмения, то пылает огнем. Этот образ снова отсылает к Тарковскому, теперь уже к «Солярису», где главный герой – Океан сознания.
«Тарковский был одним из первых режиссером, которого я начала осознанно смотреть лет в 14, в том числе для тренировки композиции, выстраивания «кадра» в живописи. Я останавливала сцены и делала зарисовки. Так же смотрела фильмы Параджанова и Бергмана. Для меня кино – мощный источник вдохновения. Сейчас я иногда записываю видео пейзажа и себя в кадре, чтобы потом использовать в работе над картиной в мастерской. У живописи тоже есть сценарий, атмосфера, каждая работа – стоп-кадр, который фокусирует на моменте, но предполагает развитие и воспоминание об ушедшем», – рассказывает Анна.
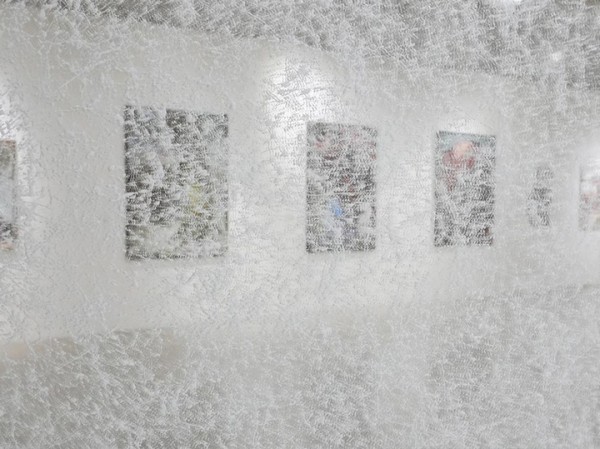
Следующая стена начинается и заканчивает круглыми зеркалами, покрытыми тонкой «паутиной» краски, которая создает ощущение застывшего времени. Здесь мы слово в «Зеркале» Тарковского, центральный образ – женский. Рядом с одним зеркалом – живописная фигура обнаженной девушки, обнимающей себя за плечи. Она кажется слабой и беззащитной, но во взгляде, обращенному на зрителя, читается сила, какой-то внутренний стержень. Героиня будто среди ледяного океана – мерзнет, но не сдается. В другой картине тоже спрятала сильная женщина. Ее силуэт различим не сразу – кажется, перед нами снежная абстракция, в которой можно угадать ветер, плеск океана, бурю. Но если присмотреться, оказывается в этой стихию обернулась еще одна женская фигура, стойко переносящая обстоятельства.

Эта монохромная серия вступает в диалог с соседней стеной, где представлены наполненные светом и воздухом экспрессивные работы, созданные во время весеннего путешествия по северу Франции. Здесь и Нотр-Дам-де-Пари и Руанский собор. Аня читала в той поездке Марселя Пруста, заметки о французской архитектуре и городе, которые потом вошли в его романический цикл «В поисках утраченного времени». Не могла она не думать про Клода Моне, по следам которого писала свой Руанский собор, тоже наполненный легкими впечатлениями. Ее импрессия выходит из черного холста, словно из тьмы времен, яркий цвет, нарисованный прерывистыми штрихами и точками.

Круг замкнулся, кажется, мы прошли вместе с героиней сквозь землю к огню и через воду – к воздуху. Через все стихии, разные эпохи и реальные географические точки с историей и фантастические миры, которые вкупе показывают время не линейным и не однородным, зависящим от восприятия и настроения. Это Одиссей сквозь тонкий мир высокой частотой внутренних вибраций, где неявное становится осязаемым.
