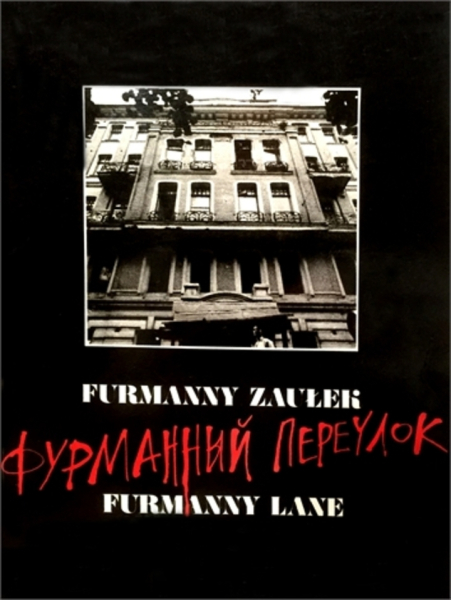Художник Игорь Новиков раскрыл подлинную историю «самозахвата» мастерских в Фурманном переулке
Художник Игорь Новиков рассказал о мифах и правде “Фурманного переулка”
Временем основания «сквота в Фурманном переулке» принято считать 1987 год, когда в доме №49 в стенах расселенной коммуналки возникло арт-пространство, отмеченное такими именами, как Фарид Богдалов, Юрий Альберт, Свен Гундлах, Вадим Захаров, Константин Звездочетов (и в целом участников арт-групп «Мухоморы», «Чемпионы мира»), Николай Овчинников, и многими другими. Казалось бы, прекрасная история, напитанная перестроечным духом свободы, который в конечном итоге и смёл советскую систему. Но художник Игорь Новиков, один из пионеров русского нонконформизма, стоявший у истоков сквота, во-первых, опровергает сам факт самозахвата пустующих помещений, а во-вторых, предлагает собственную хронологию событий, согласно которой «Фурманному переулку» в сентябре 2025 года исполняется сорок лет.

тестовый баннер под заглавное изображение
— Игорь, давайте для начала выясним, что не так с датой основания?
— Когда я оканчивал Суриковский институт, стало понятно, что мне нужна творческая мастерская. Я жил в Лялином переулке и на улице Чаплыгина, над «Табакеркой», и с 1985 года плотно начал обхаживать ЖЭКи, потому что раньше все от них зависело. Пустующие чердаки, подвалы, а иногда и первые этажи мог только директор ЖЭКа предоставить. У меня были хорошие связи в Бауманском райкоме партии, оттуда позвонили директору 5-го ЖЭКа Светлане. Женщина она была интеллигентная и сразу пообещала подыскать помещение. Предложила несколько вариантов не самых удачных, а через пару месяцев оказалось, что идет выселение в Фурманном переулке, рядом с которым жил маршал СССР Шапошников и армейские чины.
Шапошникову тогда пришла идея создать новый жилой район для Генштаба, со своими школами, детскими садиками… Старые дома, в том числе №18 в Фурманном, попали под расселение. Светлана тут же мне сообщила, что освобождается целый каскад квартир. На календаре был 1985 год.

— Чем-то мне это напоминает московскую часть сюжета фильма «Джентльмены удачи»: выбирайте любую квартиру, дом предназначен к сносу, жильцы выселены…
— Почти, но Светлана поставила условие предоставления мне первой мастерской: кто-то должен оформить Ленинскую комнату в ЖЭКе №5. Я особо шрифты и лозунги писать не умел, поэтому пригласил своего знакомого Фарида Богдалова, лаборанта по оформлению графики в Суриковском институте, которого выгнали со скандалом и который нигде не мог найти работу. Жить ему тоже было негде, так что он с радостью поселился в моей мастерской (это был его последний шанс остаться в Москве) и взялся за эту подработку.
Прошло полгода или год, и произошел так называемый сквот. Но никакого самозахвата не было: Светлана торговала этими помещениями. Мы ей платили по 100–200 рублей, сумма для нас была очень небольшой: ребята подрабатывали в Измайлове, на Арбате продавали картины…
Сквот мирно просуществовал до 1990 года.
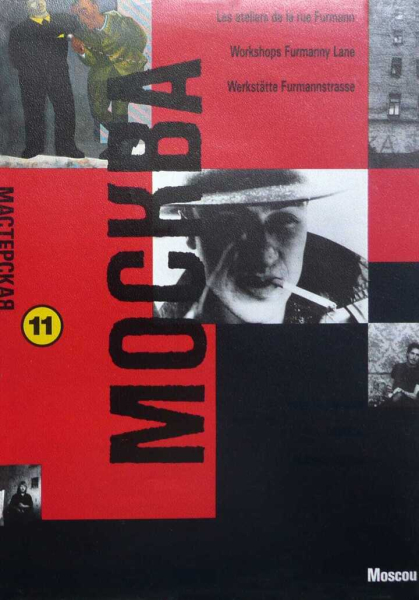
— А потом случился печально известный «разгром»?
— Да, но его могло не быть, если бы художники не зарвались, не попытались узаконить помещения и не пошли к префекту Центрального округа Александру Ильичу Музыкантскому. Им говорили: ребята, не делайте этого, вы платите, и мы закрываем глаза на то, что вы тут поселились. Когда Шапошников и Генштаб узнали о нелегальных жильцах, тут же была прислана рота солдат, которые выломали двери, рамы, выбросили вещи, отрезали батареи… Так «Фурманный» закончился.
— «Разгром», получается, и вашей мастерской коснулся. Были ли вы к нему готовы?
— Я знал, что скоро все кончится, Светлана предупреждала: как только начнется капитальный ремонт здания, нас выгонят. Так что я плавно стал перебираться в Банковский переулок, перевез все картины.

— Какая же хронология существования «Фурманного переулка» верна?
— Везде пишут, что с 1987-го по 1990-й, на самом деле — с августа, а точнее, сентября 1985 года по октябрь 1990-го. Но важна не хронология, а те, кто его открыл миру.
Если бы арт-критик Лариса Кашук не привела в 1988 году к нам Петра Новицкого, президента Польского фонда современного искусства, то не было бы выставки в 1989-м на фабрике Норблина и большого выставочного проекта «Нонконформисты» (Варшава, 1993; корпус «Бенуа» Русского музея в СПБ, 1994). Само слово «нонконформисты» не приклеилось бы к русскому искусству! А до этого, кстати, была выставка в Музее Мануар города Мартиньи (Швейцария) 1990 года, на открытие которой я ездил, издан 400-страничный каталог картин по инициативе Жана Пьера Броссара, представителя ЮНЕСКО от Швейцарии. После Швейцарии «Фурманный переулок» стал мировым брендом.
Но могло быть иначе — вспомним хотя бы судьбу аналогичных объединений, например в Крапивенском переулке, исторически не поддержанных ни книгами, ни каталогами.