Существует ли в России «стеклянный потолок» или женщины его выдумали
«Извините, не знаю, о чем с отцом на родительском собрании говорить»
Несколько лет назад дискуссия про «стеклянные потолки» была весьма модной. Термин предполагает ситуации, когда традиция, привычка или предубеждения препятствуют профессиональному развитию человека, его продвижению по служебной лестнице. Такой негласный ограничитель может быть выставлен из-за возраста или национальности, религии или физического состояния работника. Но чаще всего в нашей стране такое случается из-за пола.
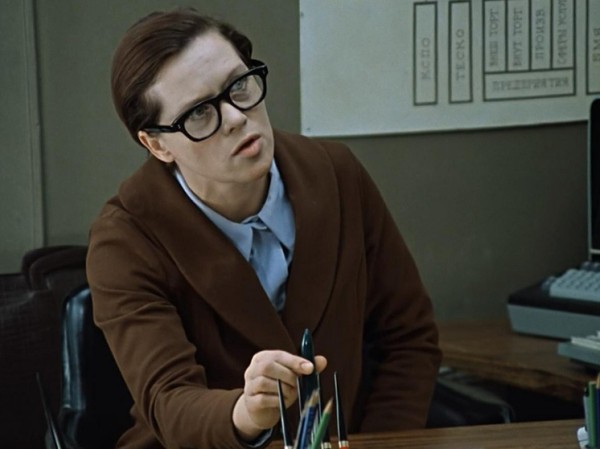
тестовый баннер под заглавное изображение
Вновь вбросил эту тему в информационное пространство известный дизайнер Артемий Лебедев, который, помимо прочего, почти 25 лет подвизался на поприще блогинга и властителя дум в Интернете. От него прилетало много кому — от всех «безвкусных московских дам» до «никчемных журналистов».
В этот раз он заявил, что если бы «стеклянные потолки» и демпинг зарплат для женщин на самом деле существовали, все коммерческие структуры нанимали бы только представительниц слабого пола. Ведь это дешевле! Разве не баланс спроса-предложения, экономия — главные рыночные правила? А раз подобного не происходит и рекрутеры не бегают за «женскими кадрами» очно и виртуально, то и «потолков», соответственно, нет.
Впрочем, в творческо-богемной среде карьерного шовинизма, возможно, и не наблюдается или он поменьше. А вот на каналах попроще, замешанных на подчеркнуто неблагородной почве (там слово «благородный» считается за ругательство, и даже «благородного оленя» переиначили по принципу анти-упячки — «алень»)… Там выдумали термин «женский (в оригинале грубее) паркет». Это о повсеместно распространенном, по мнению мыслителей из маносферы, явлении протекционизма, когда свою пассию продвигают и всячески ей покровительствуют любовники, поклонники. В крайнем случае — мужья.
Так есть все-таки «стеклянный потолок» или нет и каким он видится в России? Или «всё женщины насочиняли» — в этом убеждены тысячи озлобленных людей на форумах и даже кое-кто — в башне из слоновой кости.
К обсуждаемой проблеме нельзя не добавить «мотив» консервативно мыслящих радетелей и страстотерпцев о демографии. Конечно, не все даже в Госдуме формулируют свои мысли так же четко и назидательно, как глава Минздрава Михаил Мурашко, например, назвавший современных дам и девиц порочными из-за интереса к карьере.
Регулярно срывает «маски с карьеристок» и протоиерей Ткачев на своем церковном видеоканале. Для его речей любой потолок слишком хрупок: батюшка топит за физические действия. Даже домохозяек призывает «ломать об колено», что уж про работающих женщин говорить. Евиным дочкам рупор упоротой части верующих приписывает все: от трусости и плохого здоровья до демографического кризиса и бессмысленных смертей в ДТП. Солидаризируясь в этом с практическими наущениями от различных имамов современности. От тех, кто наущает «правильно побивати» жен, до критикующих соплеменниц в платках и никабах, проходящих образовательные курсы.
Что взять с «потолка»?
Считается, что первой термин «стеклянный потолок», обозначающем невидимый предел карьерного роста или материального, озвучила писательница и консультант по управлению Мэрилин Лоден в далеком уже 1978 году. Термин прозвучал на конференции по гендерному равенству.
Затем удачную метафору подхватили в СМИ, и «потолок» начали применять не только к гендерам, но и к другим демографическим группам, который не пропускают наверх: к афроамериканцам, коренным американцам, представителям любых резерваций или гетто, в том числе социальных, в США.
Окончательно «стеклянный потолок» закрепился как термин благодаря большому социально-экономическому исследованию, инициированному администрацией Джорджа Буша-старшего, предпринятому с целью выяснить, есть ли дискриминация в частных компаниях. И да, дискриминацию нашли, в том числе по отношению к женщинам.
Но у нашей страны свой путь, ни на Европу, ни на Новый Свет не похожий. Концепция политического и социального равенства прав мужчин и женщин в СССР была одним из краеугольных камней советской идеологии сразу после 1917 года. И в то время подобная эмансипация была революционной. Хотя, возможно, ее придерживались не массово и скорее в городе, чем в деревне, скорее интеллигентные круги, чем нет.
Недавно вышел новый документальный фильм, посвященный женским авиаполкам времен Великой Отечественной войны, летчиц которых немцы прозвали «ночными ведьмами». Его главным действующим лицом стала Герой СССР, штурман и начальник связи женской эскадрильи 46-го авиаполка Полина Гельман. Она утверждает, что не было никакого «потолка» или даже гендерного предрассудка в 1930-е годы, «до войны». Девушки и юноши наравне занимались в кружке авиапланеризмом и наравне поступали в вузы. Сама Гельман перед войной училась на историческом факультете в МГУ. Вокруг нее «ничего такого не было».
В 2017 году в России проводились два социологических исследования «гендерного потолка». В первом аналитики международной компании пришли к почти сенсационному выводу: наша страна оказалась европейским лидером по доле женщин в высшем руководстве и менеджменте — целых 47%. Особняком стоят только госструктуры и окологосударственные компании, а также силовые структуры, где руководство «в юбке» не приветствуют.
Такую статистику исследователи поспешили приписать «опыту СССР». Следом провели другой опрос, резюме которого можно выразить фразой «но не все так просто». Хотя бы потому, что 63% женщин признали: невидимый потолок все-таки ощущают. Если не напрямую, в виде отказов или назначений, в которых их обошли, то опосредованно. Из-за навязанной социальной роли, в которой женщина у нас больше внимания уделяет быту и семье. Тот самый гендерный контракт, и от него никуда не денешься.
По принципу «дьявол в мелочах» оказалось, что при почти половине дам у руля компаний и различных организаций 44% опрошенных хотя бы раз в жизни оказывались в ситуации, когда «наверх» продвигали коллегу-мужчину. Хотя у женщины была такая же или лучшая компетенция. Не встречались с таким положением вещей никогда 45% участниц опроса.
Интересно и то, что мизогиния на рабочем посту встречается и у самих женщин-руководительниц. В том, что сами в подобной ситуации хотя бы однажды предпочли работника-мужчину, признались 16% женщин-шефов. Против 75% тех, кто никогда так не поступали.
Вдобавок 68% мужчин в ходе анонимного опроса согласились с тем, что социальная роль жены и матери «накладывает на женщину определенные карьерные ограничения». Это существует, хоть, возможно, и неправильно.
Сравнение зарплат — неблагодарное занятие, но был в исследовании и такой скользкий вопрос. И ответы очень разнились по полу. 39% женщин-сотрудниц разных компаний считают, что их зарплата не соответствует (ниже) доходу коллеги-мужчины, находящегося на той же должности с тем же уровнем подготовки и списком обязанностей. Среди представителей сильного пола таких «недовольных» набралось только 8%. А 71% респондентов-мужчин сочли, что их деньги «на уровне». Многие никогда не задумывались о какой-то разнице.
Впрочем, профессиональная конкуренция — дело субъективное. Но гендерное неравенство при трудоустройстве наглядно и очевидно — оно часто начинается на этапе рассмотрения вакансии и собеседований.
31% женщин сказали, что имели опыт отказа при приеме на работу «по гендерному признаку». И 38% мужчин-руководителей признали, что хотя бы однажды отказали в приеме кандидату женского пола «по этой причине».
При том что зарплатные ожидания у женщин зачастую занижены. Лишь 35% респонденток были уверены в том, что их труд оплачивается наравне с мужским. Но даже с демпингованным «ценником» работодателя пугают сопутствующие сложности. Сколь ни грустно признать, чаще всего перспективы женщины как работника осложняет материнство.
Борзые матери, неподходящие отцы
Социологи считают, что между половой дискриминацией на подкладке «семья как предназначение, дети как смысл жизни» и поддержкой многодетных семей с государственным патернализмом — тонкая грань. И приводят в пример наше недавнее прошлое. Когда аббревиатурой БОРЗ (без определенного рода занятий) припечатывали тех, кто не работал «с девяти до шести». А полное отсутствие занятости могло стать основанием для судебного решения по знаменитой статье 209 — «за тунеядство». Для исправления могли отправить в совхоз, на «химию», в колонию-поселение или ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий, который на самом деле мало чем отличался от зоны). Отсюда, кстати, и советское прилагательное «бОрзый» (не от быстроты и борзЫх, получается).
До- и послеродовой декретный отпуск в Стране Советов считался одним из достижений социализма. Отчасти так и есть: до сих пор существует внушительный список стран, включая развитые, где понятия «декретный отпуск» не существует. Вот только период ухода за малышом был очень маленьким. Три-четыре месяца после родов — и бегом на работу.
Частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком длиной в год (по желанию — в полтора, но полгода без оплаты) ввели только в 1981 году. А до того даже совсем маленьких детей определяли в ясли, потом они шли в сад. Для детей с какими-то «сложностями», заболеваниями или инвалидностью существовали коррекционные учебные заведения, интернаты, «лесные школы» и психоневрологические диспансеры.
Женщины старших поколений часто вспоминают о том, что «на работу выгоняли», и было безумно жалко отдавать малышей в чужие руки. Но в Стране Советов «безработицы нет», и «работать должны все». Выручали работниц и крестьянок их мамы или свекрови, иногда даже бабушки-прабабушки.
«Моя мама никогда не работала, только в войну трудилась на заводе, — вспоминает 86-летняя Маргарита Наумовна. — Так она меня даже в санаторий отпустила после тяжелых родов, когда дочери было 4 месяца. Надо отдохнуть, надо лечиться, в родах была большая кровопотеря. Дочь оставалась дома, с ней, ребенку нашли молочницу, и я уехала. Могу сказать, что обоих моих детей вырастила бабушка».
— У меня общение с кадровиками сразу началось с того, что поздно вечером позвонил неизвестный и задушевно спросил: «А вы замужем?» — рассказывает 54-летняя Александра. — Услышал, что не замужем, и сразу бросил трубку. Мне тогда было 22 года. А другой человек в отделе кадров объяснил, что неохотно берут незамужних и привлекательных, чтобы не начала романы крутить и отвлекать женатых мужчин от работы. Матримониальный статус поменялся у меня — завели бесконечное: «Дети есть, планируете?» Никто не хотел декрета. Родили детей — так началось: «А что если они будут болеть?..» Но всех превзошел один юноша-HR, который меня собеседовал недавно. Спросил, буду ли я еще рожать. «Мне 54», — говорю. А он эдак компетентно: «Сейчас многие поздно рожают».
— Самое тяжелое препятствие в «трудовой» — надолго зависнуть в декрете из-за проблем с ребенком, — говорит 44-летняя Елена. — У меня так получилось. Ребенок поздний, долго лечились, потом родилась девочка с пороком сердца, много кричала, нервная система внутриутробно пострадала из-за гипоксии… В общем, с подработками зависла я дома на долгих 8 лет. А когда смогла все же выйти, мое резюме отклоняли «на подлете». Хотя оно «до того» было очень приличное. Или спрашивали с недоумением: «Где вы были эти 8 лет?!» Не будешь ведь всем озвучивать диагноз своего ребенка. И да, извечные вопросы про больничные. Одна кадровичка сообщила, что не верит в няню, «это ненадежно». Другая, женщина-руководитель, сказала: «Если вы мама, то как работник — всё».
Социологи и философы считают, что при определенных условиях со «стеклянным потолком» из-за возраста, этноса, веры, веса, болезни или пола может столкнуться любой человек. Потому что основная питательная среда для этих ограничений — стереотипное восприятие и предвзятость, в частности, в отношении «полноценности» того, кто чем-то отличается от общественного идеала. И неважно чем: механизм «стеклянного потолка» в определенных условиях одинаково работает для чернокожих и цыган, женщин и представителей сексуальных меньшинств, пенсионеров или инвалидов…
Именно на гендерный «стеклянный потолок» влияют культура, воспитание, общественные ожидания и стандарты («предназначение женщины — семья и дети»), госполитика и даже элементы корпоративной культуры. Мол, «куда с бабой поедешь: в сауну нельзя, на рыбалку нельзя…» Это особенно тревожно при современном российском крене на «заботу о демографии».
Но и мужчины страдают от устаревших общественных установок. Многие по старинке ждут от мужчины «добычи мамонта», исполнения роли кормильца, безэмоционального добытчика, несокрушимой опоры семьи. В такой позиции ни выгореть, не заболеть, ни возрастному кризису поддаться нельзя. И даже новая разновидность «потолка» появилась: в Москве, например, появилось такое новшество, как врачи-мусульманки, которые не принимают мужчин.
— Да, ситуация с «потолками» работает в обе стороны, — говорит социальный психолог Валерий Раушинский. — И всякие заигрывания с «корнями», с домостроем, миром крестьянской общины и прочим подобным противоречия усугубляют. Все-таки с провозглашения равенства у нас больше 100 лет прошло, и это необходимо учитывать.
Но рудименты сохраняются. В России есть ряд профессий, хотя список и сократился, в которых женщины не могут быть заняты. Нельзя машинистом в метро работать, нельзя управлять погрузчиком и экскаватором… Непонятно, почему так: пилотами можно, капитаном на море можно, а в метро — нельзя. Слышал оригинальную версию, что перерыв на туалет у машиниста маленький — женщины не успевают. Хотя помощником машиниста может быть женщина. И проблема не в перерыве, конечно.
Но есть и традиционно женские занятия при этом. Знаю, что с определенными сложностями в трудоустройстве сталкиваются мужчины-воспитатели в детском саду. Вот снова — детский тренер по плаванию, да и даже стилист-парикмахер может быть. А воспитателем — нельзя. Или сиделкой у пожилых, хотя сиделки на себе и людей носят, ворочают их. Но там одни женщины. На мужчину клиент смотрит косо.
Даже в школе так смотрят — мне тут рассказали смешной случай. Ходит на собрания в школу один папа — там и мама есть, но сам рвется: вовлеченный папа. Пожилая учительница у него все время спрашивает: «А где мама у ребенка, почему не приходит?» Когда мама пришла, учительница сказала: «Извините, я не знаю, о чем с мужчиной на собрании говорить. Он же ничего не знает про ребенка! Отец на собрании — неподходящий родитель…»
