Заяц-бумер: мультфильм «Ну, погоди!» отразил разницу двух советских поколений
Волк, срисованный с Высоцкого, не мог отказаться от автомобиля
От «бумеров» до «зумеров» — знаменитый мультик «Ну, погоди!» любят все наши зрители. И почему бы не любить, спрашивается: экшен на уровне «Тома и Джерри», но при этом мягче, добрее. А главное — это же наше и про нас. Вопрос, а что, собственно, хотел сказать автор, будто бы неуместен: мультфильмы-то детские. Но… если всмотреться и вслушаться, подтекста в «Ну, погоди!» хоть отбавляй. В том числе политического: то, чего нельзя было сказать в кино напрямую, смогли «протащить» на детские телеэкраны.
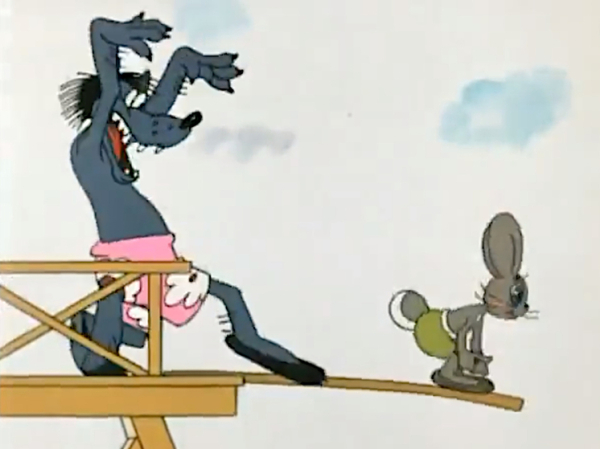
тестовый баннер под заглавное изображение
Как известно, сначала короткометражку про волка, гоняющегося за зайцем, — простую такую сказочку о животных — именитые мультрежиссеры того времени снимать не хотели — мелко. Наконец сценаристы — Александр Курляндский, Феликс Камов и Аркадий Хайт — уговорили на этот 10-минутный мультик Вячеслава Котеночкина. На экраны он вышел в великом для советской мультипликации 1969 году — вместе с «Бременскими музыкантами» Инессы Ковалевской, «Винни-Пухом» Федора Хитрука, появились «Дед Мороз и Лето», «Умка»…
Забавно, что мультфильмов с названием «Ну, погоди!» в том году вышло сразу две штуки! Первый из них — та самая изначальная сказка о животных продолжительностью 2,5 минуты — интегрирован в дебютный выпуск «Веселой карусели». Но про тот мультик сейчас помнят только ценители — в нем не оказалось главного, за что все полюбили впоследствии сериал Котеночкина, — портретности, узнаваемости и динамизма.
Здесь был Высоцкий
Урна, которая появляется на экране в первые же секунды первого выпуска, похожа на песочные часы. Ноги в черных клешах — о том, что это Волк, мы узнаем через несколько мгновений — с размаху пинают эти «часы», так что из них сыплется… не песок, но мусор, в котором мелькают внезапно круглые старомодные очки в эбонитовой оправе.
Волк — камера наконец дает его в полный рост — одет в брюки-клеш, розовую рубашку навыпуск с отворотами и кепку с маленьким козырьком. Стиляга! — думаем мы; еще пару секунд спустя он прикуривает «беломорину» бензиновой зажигалкой Рижского завода, и репутация стиляги лишь укрепляется.
Дело тут в том, что обычный советский курильщик — взять хоть Юрия Деточкина — пользовался рабоче-крестьянскими спичками, стоившими после деноминации 1961 года «вечную» одну копейку. Стратегический товар, который годится и в запас на черный день, и для растопки печки, и для зажигания не знавших пьезоподжига советских газовых плит. Зажигалка же в конце шестидесятых стоила от трех рублей и дороже — червонец был не предельной суммой. Та, что в мультике — Skiltava Рижского ювелирного завода, — стоила 9 рублей и ценилась: почти заграничная!
Опять же, надежных и удобных импортных газовых зажигалок, ставших массовыми уже во вторую половину 80-х, пока не было, а советские выглядели солидно, но протекали (бензиновые) и ломались (газовые). Так что пользоваться зажигалкой — это дорого и непрактично. Зато красиво. Как клеши и розовая рубашка, завязанная на пляже узлом.
Пижон он, наш Волк. Даже ходит «стилем» — с легким «киком» вниз на каждом шаге, так танцуют джазовые танцы вроде линди-хопа. К тому же увлекается — по моде продвинутой молодежи конца 1950-х — начала 1960-х — альпинизмом: бельевую веревку мотает на локоть отработанным движением, которое ни с чем не спутаешь.
И лезет по ней, держа ноги по-пижонски «уголком»: я могу, я атлет. И насвистывает «Песню о друге» Владимира Высоцкого. Свистит, кстати, не Анатолий Папанов, озвучивавший Волка до самой своей смерти в 1987 году, а лично Высоцкий — авторы взяли кусок фонограммы из фильма «Вертикаль».
Владимир Семенович мог бы, кстати, и всего Волка озвучивать — роль ему понравилась, он был очень даже не против. Но, по воспоминаниям авторов, не утвердили «наверху», так что слава досталась Папанову.


Разочарованное поколение
Пожалуй, у Высоцкого отчасти позаимствован волчий гардероб: актер, как мы теперь знаем по многочисленным фотографиям, в жизни любил яркие рубашки в стиле битников и клеши тоже носил с удовольствием. А уж курил так же много, как и мультперсонаж. Но кто, спрашивается, мог оценить портретное сходство в те годы, когда Высоцкого не так уж много снимали, а в глянцевых журналах точно не показывали? Только узкий круг своих — они, конечно, все поняли с полуслова.
И, может быть, как раз то до карикатурности яркое ощущение поколения, что не смог по разным причинам передать на киноэкране сам Высоцкий, рисованный Волк воплотил на все сто.
Сколько «человеческих» лет Волку в первых сериях «Ну, погоди!»? Пожалуй, около тридцати: уже не мальчишка, уже зрелая и даже немного перезрелая шпана. С манерами «послевоенного», скудного и грубоватого, поколения: папироска без фильтра, кепочка, блатные манеры и джазовые вкусы.
Дети войны, стало быть, — так мы сейчас называем это поколение. Те, кому в наши дни 85–90, а тогда, в начале семидесятых, было около 30, чуть больше или чуть меньше. Поколение, «взлетевшее» в оттепель, имевшее грандиозные перспективы… И к концу шестидесятых обнаружившее себя погруженным в обыденную жизнь, с подрезанными крыльями.
Все семидесятые судьба и самоощущение этих людей будут главной темой советского кино. Женя и Надя из «Иронии судьбы», Новосельцев и Калугина из «Служебного романа», Афоня и Валико Мизандари из «Мимино» — все они пытаются найти себя в прозаической и не слишком искренней жизни, к которой юность их не готовила. Волк, прекрасный спортсмен, постепенно превращающийся в телезрителя с пересушенной воблой в руках и трехлитровкой пива на столе замызганной холостяцкой квартиры, — тоже из них.
Для Волка «обычный» мир в некотором роде получается задником, декорацией. Как для настоящих «детей войны» сталинская архитектура Москвы — это реальность, но совершенно не соответствующая ни духу, ни стилю эпохи. Вот, например, милиционеры на мотоцикле: реальность, да еще какая, но не действующие лица, а просто антураж. Или оборудованные как попало балконы: на одном сушится рыба под пиво, на другом выставлен старинный самовар с баранками, на следующем висит белье… Взгляд Волка скользит мимо, вся эта архаика (хотя воблу он любит и сам) и проза его не волнуют. И даже появляющийся этажом выше Заяц волнует поначалу лишь как блюдо, оформленное по опять-таки «антуражным» лекалам «Книги о вкусной и здоровой пище».
А вот чего в «Ну, погоди!» напрочь нет — это национального вопроса. Это, скажем, Чебурашка, лиричный кукольный ровесник Зайца, имеет вполне отчетливую национальную принадлежность (найден в коробке с израильскими апельсинами, характерно грустит). Здесь Заяц всего лишь домашний пионер, тогда как Волк — всего лишь хулиган-переросток. И никаких, понимаешь, лишних аналогий.


Заяц оптимизма
Краткий «кулинарный» мотив из первой серии отнесем, пожалуй, просто за счет инерции авторов: ну в самом деле, зачем бы Волку гоняться за Зайцем? Конечно, чтобы съесть… Но очень скоро Волк начинает просто без каких-либо причин гоняться за своим вечным партнером.
Ты догоняешь, как говорил Юрий Деточкин, я убегаю. Ты убегаешь — я догоняю.
Причина, кажется, глубже: возможно, Волк просто завидует юному и оптимистичному Зайцу. Ведь тот представитель куда более благополучного поколения бэби-бума 1950-х. В шестидесятые, значит, школьник, пионер, с присущим возрасту оптимизмом. Не замечающий того, что уже знает Волк: что мир идет «куда-то не туда», а жизнь — это боль.
Вот же — Заяц в своих вечных спортивных трусиках и футболке поливает на балконе… цветочки! Не хранит там хотя бы тот же самовар, а поддерживает запланированное в «хрущевках» 60-х вертикальное озеленение фасада! Как раз в начале семидесятых почти везде исчезнувшее, кроме особых серий «дипломатических» домов…
Как школьник — и заодно как «человек будущего» — Заяц не водит машину: да, тогда уже начинались горькие думы об экологии и о том, что «в этом городе слишком много машин». Он ездит на велосипеде. Демонстрируя, кстати, тем самым полное отсутствие агрессии — также черта «человека будущего» в универсально-мировом понимании.
Войн не будет, а люди смогут телепортироваться; ну а пока телепорт еще не изобрели, будем ездить на велосипедах.
Само собой разумеется, что предыдущее поколение — то, что в детстве застало войну, — было куда брутальнее. Вот и Волк — в третьей серии мультика он выкатывает из построенного как попало из подручных материалов гаража красавицу «Яву-350», на которой к тому же нанесен портрет роковой красавицы-волчицы. А потом садится за руль угнанной спортивной машины. Хотя Зайца на велосипеде мог бы догнать и пешком. Но нет, рев мотора — это же для того поколения рррррромантика!
Кстати, вот что с этой спортивной машиной, развалившейся на ходу, забавно… Больше всего по своим обводам она напоминает… «Серебряные стрелы» от довоенного немецкого AutoUnion. После 1945 года несколько таких агрегатов попали в Союз как трофеи и стали первыми, самыми успешными спортивными болидами. До самых шестидесятых, пока «стрелы» не измочалили вконец, им не было равных по скорости.
Короче говоря, представьте-ка Высоцкого без мотора. Не выходит?! А вот представители следующего поколения, по мысли авторов, от этого «предрассудка» будут свободны… Ну, теперь-то мы знаем, что, пока снимали «Ну, погоди!», в Тольятти сотнями тысяч делали «Жигули» и подросшие бэби-бумеры стали не менее автомобилизованным поколением, чем дети войны. Но это будет уже потом, в восьмидесятые.


Спорт или мир?
Хулиган и паинька, разочарованный циник и оптимист — конечно, Волк и Заяц практически противоположны по характеру. По крайней мере в первых сериях; это уж потом, когда они вместе выкачивали воду из трюма в восьмом выпуске, зарождается этакая «прекрасная дружба». Однако же есть одна сфера, где с самого начала, с первой серии оба героя на одной волне.
Волк, просим заметить, увлекается модными видами спорта. Навскидку: альпинизм, подводная охота и в целом подводное плавание, автомотоспорт и даже яхтенный спорт. Все это индивидуалистические, экстремальные и требующие дорогой экипировки виды активного отдыха. Они почти не были популярными в СССР в до- и послевоенные годы и лишь в богатеющие шестидесятые начали развиваться. Тогда-то расцвели яхт-клубы в Таллине и Жданове (Мариуполе), появились альплагеря и горнолыжные курорты — не Куршевель, конечно, но вполне на уровне.
Но ведь… и Заяц любит подобные же виды спорта! Водные лыжи, например, в Союзе начали развиваться в конце пятидесятых, требовали дорогой экипировки. Даже Юрию Гагарину, кстати, не советовали становиться почетным председателем федерации воднолыжного спорта: мол, не надо так раскручивать водные лыжи, мы потом разоримся строить базы и производить снаряжение!
Или вот парашютный спорт — он, конечно, был благодаря ДОСААФ доступнее, чем сейчас, но все равно это вам не городки и не футбол во дворе — это хайтек. А вот прыжки в воду с вышки, которые мы тоже наблюдаем в исполнении Зайца, — это хоть и технологичный, но недорогой тогда вид спорта; особой экипировки он не требует, а вышки были на многих водоемах.
И все же… сколько стоит снаряжение, например, Волка в первой серии? Мы видим резинострельное, одно из первых в СССР, подводное ружье Р-1 — такие делали в Киеве, а стоило оно в разные годы от 25 до 50 рублей. Приблизительно столько же в общей сложности стоили маска и ласты. Итого сто рублей, половина неплохой зарплаты, за комплект.
Водные лыжи Зайца были дороже — до 150 рублей; при этом купить готовые было архитрудно. Воднолыжники советской закалки вспоминают, что до того, как в конце 1970-х институтом ВИСТИ были разработаны отечественные конструкции, нужно было ходить на поклон к мастерам, которые изготавливали водные лыжи в кустарных условиях. Ну или добывать заграничное снаряжение.
Про велосипед Зайца и мотоцикл Волка мы уже вспоминали; добавим лишь, что не только «Ява» (около 2000 рублей), но и хороший спортивный велосипед (мог стоить столько же, если фирменный шоссейник) требуют денег. Разница между Волком и Зайцем в другом: у первого вся мотивация построена на агрессии, а второй «никого не хочет победить».
Потому, скажем, Заяц и пьет морковный сок — исчезнувший, кстати, из массового употребления напиток, когда-то обязательный во всех детских садах страны. А Волк, разумеется, всевозможный алкоголь, как свойственно вообще многим из его поколения; этот герой — вечный подросток, доказывающий себе и всему миру: мне уже 18, и я всё могу!
Семиструнка и «семейники»
За гонором Волка, за его внешней обеспеченностью и удачливостью стоит довольно-таки убогая, на современный взгляд, начинка. Взять хотя бы белье — розовые трусы в цветочек, что нам показывают почти в каждой серии, никак не назовешь ни стильными, ни даже современными. Фасон этот, кто не помнит, в советское время назывался «семейные трусы» — видимо, в том смысле, что их носителю ничего элегантнее уже не нужно, ведь кого соблазнять женатому мужчине?
В этих-то трусах Волк галопирует по пляжу, где вся публика (в основном парнокопытная) щеголяет в нейтрального вида плавках и прогрессивных бикини. А это ведь, согласитесь, своего рода позиция: не привык заморачиваться еще и бельем; вот клеши и гавайская рубаха — это важно, а трусы — совершенно нет.
И гитара Волка тоже позиция. Мы видели таких гитаристов в миллионе фильмов времен оттепели, вроде «Весны на Заречной улице» или «Девушки без адреса». Семиструнка для полублатных-полубардовских песен — при должном желании на ней можно было попробовать играть и рок-н-ролл. Что Волк изрядно неудачно и делает во второй серии. Модно же!
Хотя танго — и это все виднее с каждой серией — ему нравится больше.
Так вот, почему гитара — это важно… С чем еще «развлекательным» мог пойти в публичное место человек того времени? С портативным, к примеру, транзистором? Да, конечно. Вот только… «Маяк» слушать совершенно немодно (если только не футбол передают). А «голоса» (если приемник такое даже и ловит) — чревато. То же и с книгой: продвинутому персонажу читать советское или классику скучно, а антисоветчину с собой не возьмешь.
И вот пожалуйста — контркультурщики выбирают гитару. Потому что сам инструмент состава преступления не образует — может, этот субъект в розовой рубашке «Подмосковные вечера» петь собирается! А в то же время три блатных или три рок-н-ролльных аккорда превращают изделие шиховской или ивановской фабрик в моднейший аксессуар.
А в том, как бацать рок, Волк, похоже, разбирается. Хотя бы потому, что микрофонную стойку он ломает и скачет с ней наперевес точно так, как это делал Мик Джаггер. И крутит микрофон на проводе, ровно как Роджер Долтри из The Who. Вот, кстати, еще одна — да какая! — шуточка для узкого круга понимающих: ну кто в начале семидесятых в Союзе смотрел концерты крутейших британских групп? То-то и оно! Постеры — аккурат в «волчьей» стилистике — пойдут уже позже, в восьмидесятые.
Укол западничества
Волк сначала (в первой серии) хочет съесть Зайца. Потом просто гоняется за ним: «дерусь, потому что дерусь». Потом, уже в восьмидесятых, пытается под песни Аллы Пугачевой вести с ним странную дружбу… Кстати, в наше время сценарии «Ну, погоди!» не прошли бы, очевидно, моральную цензуру: это с какой такой радости Волк, явный взрослый с цигаркой, все время ошивается среди явных детей с шариками и пионерскими барабанами? Ау, милиция!
Но через все серии насквозь проходит один-единственный, как мы бы сказали сейчас, нарратив: «за границей лучше делают». С точки зрения Волка, конечно, — так ведь его глазами мы и смотрим мультик, внутренний мир Зайца остается для нас загадкой, как устройство коммунистического общества.
Зажигалка — рижская (почти импорт!), да еще и клон знаменитой австрийской фирмы IMCO. Мотоцикл — чехословацкая «Ява». Яркие рубашки, кожаные куртки, джинсы, наконец, — во многом, слишком многом легко опознается импорт.
И музыка за кадром если не западная, то по-западному динамичная. В первых сериях авторы по-настоящему потрудились, подбирая саундтрек из раритетных композиций венгерских и немецких коллективов. А заодно — вот уж хулиганство для начала 70-х! — протащили на союзные телеэкраны израильский оркестр Соломона Шварца, в 1960-е записавший известные мелодии начала ХХ века (типа «Бубличков») в ритме твиста. Послушайте музыку в финале третьей серии, когда Волк убегает от разогнавшегося дорожного катка, — это записано в Израиле!
Впрочем, звуки для многих зрителей «Ну, погоди!» были недоступной опцией — в отсутствие массового домашнего видео мультики хорошо расходились на 8-мм кинопленке для домашних «немых» проекторов. А также в виде диафильмов — фактически как комикс. Таким комиксом «Ну, погоди!» в итоге и стал.
Вышло, что этот комикс оказался посвященным двум соседним поколениям: тем, кто застал войну ребенком, и их более беззаботным младшим братьям, опоздавшим к празднику оттепели. Отношениям между ними, которые всегда балансировали от взаимного презрения к взаимному же притяжению. Трудно сказать, хотели этого авторы мультика или просто вложили в него свое наболевшее. Но получилось-то именно про это.
